15 июня 1683 года из Тулона вышла эскадра в составе 15 ЛК, 7 галер и 7 бомбардирских кэчей. 20 июня флот был у гавани Алжира. Был послал парламентер с требованием освободить рабов-христиан. Баба Хасан предложил французам идти лесом.
21 июня была выработана диспозиция, и бомбардировка началась.
21 июня – выпущено 240 бомб, плюс до 1000 ядер с кораблей и галер.
22 июня – 330 бомб и 1200 ядер.
23 июня – 303 бомбы, причем почти все по гавани. Затонуло 2 алжирские шебеки.
26 июня – выпущено 98 бомб. В основном по гавани и причальному пирсу.
27 июня – 227 бомб по порту и городу. Потери убитыми составили до 300 человек. Общее количество потерь оценивалось к тому времени до 800 человек только убитыми.
Корсары заволновались. Они привыкли, что убивают они, но были совершенно не готовы к тому, что убивать будут их.
28 июня – бомбардировка продолжилась, и Баба Хасан, собравшись в подвале дворца с руководством вилайета, решил просить мира. Послали за французским консулом – отцом Вашером, которого отправили к Дюкену с просьбой узнать – чего этому неверному суккубу надо вообще?
Дюкен поставил условие – освобождение всех христианских рабов
без выкупа; возмещение всех затрат французскому королю на экспедиции против берберийких пиратов (1.5 миллионов ливров); наказание все причастных к убийствам христиан.
К концу дня Вашер вернулся, и сказал, что христиан освободят на следующее утро, на рассвете. 30 июня на борт французам было передано 142 христианских раба. Дюкен удивился – а почему так мало? Дей ответил, что большинство христиан работают в полях, это просто те, что были под рукой, просто нужно время, чтобы доставить остальных.
Дюкен согласился, и дал Баба Хасану пять дней. В ответ мусульмане попросили тогда освободить всех пленных берберийцев, ибо уж если меняемся, то дашь на дашь. Дюкен в принципе был не против, но сказал, что сделает это только тогда, когда все христиане будут переданы на его корабли.
К 3 июля было переслано 546 рабов-христиан. Вроде бы ничего не мешало подписать мирный договор, однако военные действия возобновились 14 июля, ибо король отказался возвратить пленных корсаров Алжиру. Мотивировка - возвратили только 25-30% христиан, а возврат пленных пиратов в договоре прописан только после освобождения ВСЕХ европейцев.
В этой ситуации Баба Хасан начал выглядеть перед своим Диваном (Советом) как профранцузский шпигун и сэпаратыст, естественно, что 16 июля в Алжире произошел военный переворот, Баба Хасан был убит, и новый дей – Эль-Хадж Хуссейн Паша отказался ото всех подписанных Баба Хасаном соглашений. Самое смешное – Эль-Хадж – это по одним данным бывший французский подданный, по другим – балеарец, с Майорки. То есть христианин, принявший ислам.
Дюкен несколько дней ждал, что ответят корсары, они и ответили – своим способом. Новый дей сказал, что если французы не уйдут - отец Вашер и еще 200 христиан будут привязаны к пушкам и расстреляны ядрами. Французский адмирал понял, что договариваться с ублюдками и балбесами можно только с позиции силы.
21 июля французы открыли огонь. 250 бомб и до 1300 ядер первый день.
22 июля – 300 бомб и 800 ядер.
23 июля – 300 бомб и 1300 ядер.
29 июля Эль-Хадж выполнил свое обещание, расстреляв отца Вашера и еще 20 (вместо обещанных 200-т) пленников пушками. Их останки Эль-Хадж приказал сложить в корзины и послать французам в качестве подарка.
Бомбардировка 30 июля была самой мощной – 700 бомб и до 1600 ядер.
В Алжире не осталось ни одного целого дому. Гавань была завалена обломками кораблей и причальных укреплений. По сути это был уже просто расстрел в одни ворота.
7 августа – 300 бомб и 1000 ядер.
11 августа – оставшиеся в живых галеры корсаров пошли в атаку на галиоты – были с 300 ярдов хладнокровно расстреляны линией из 15 французских кораблей. Не выжил никто, пленных не брали.
18 августа – последняя бомбардировка – еще 350 бомб и последние ядра. Можно сказать, что Дюкен полностью опустошил свой боезапас.
19 августа Дюкен покинул гавань Алжира, который к тому времени представлял из себя что-то типа Герники или Дрездена. По самым скромным подсчетам потери населения Алжира составили до 4000 человек, среди них – до 1200 корсаров. Полностью было уничтожено 60 домов. Еще множество - сильно повреждено. Для городка с населением тысяч в 5 – это вообще катастрофа.
16 апреля 1684 года в Тулон прибыл посол нового дея – Диван-Джаффар Хадж-Ага, который с верительными грамотами проследовал ко двору Людовика XIV. Тема встречи – мир на любых французских условиях.
В результате был подписан мир «на 100 лет». Стороны отказывались от финансовых претензий друг к другу, и меняли пленных по принципу «всех на всех». 14 июня 1685 года из Тулона отплыли «Агриабль» и «Биззар» под флагом шевалье де Турвилля, которые перевезли в Алжир 302 мусульманских пленника. Алжирцы в свою очередь освободили до 2000 европейцев.
Теперь надо было разобраться с Тунисом, так же как и с Алжиром.



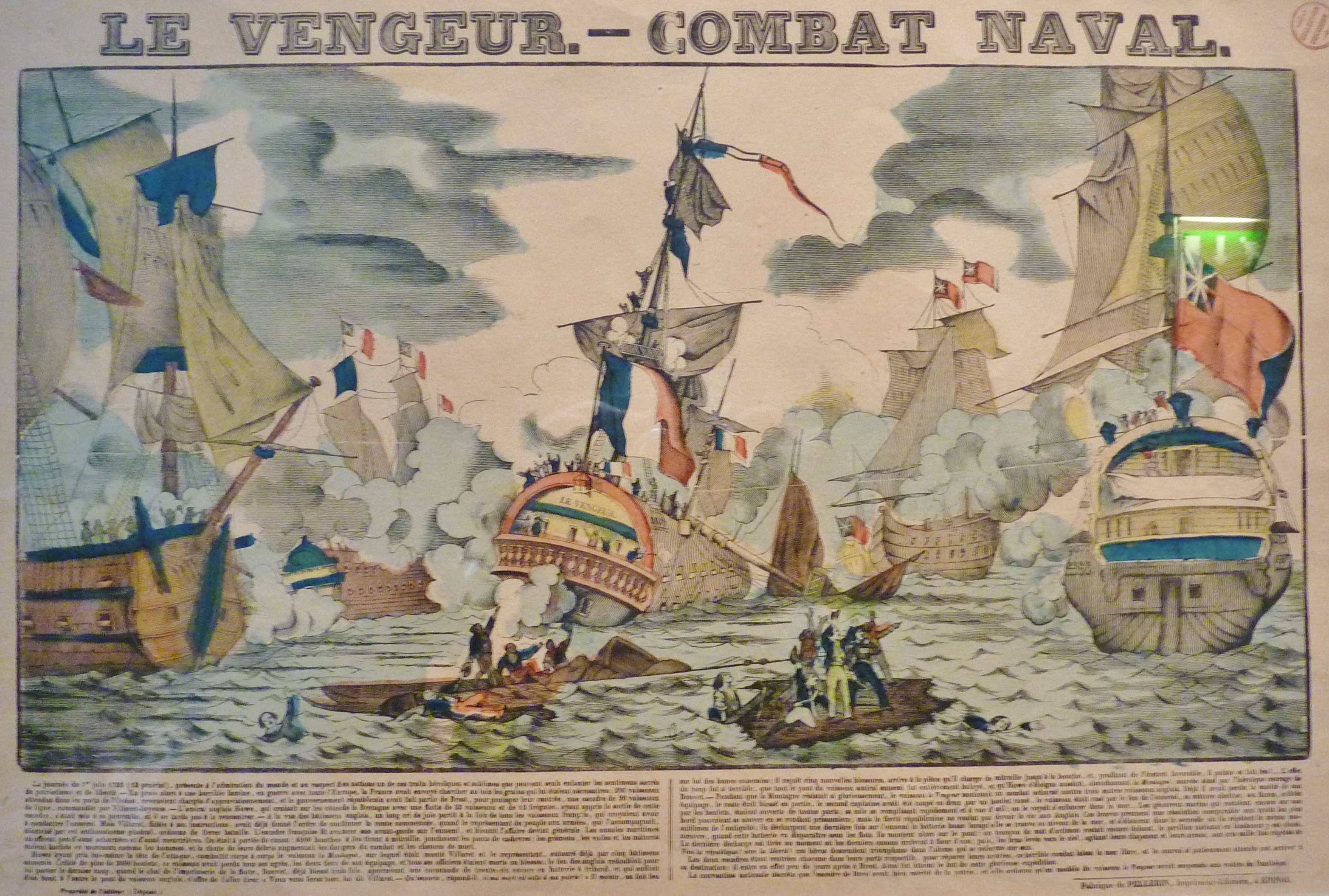














-(ATTRIBUE-A)-L-ARRIVEE-D-UN-NAVIRE%26HELLIP-.jpg)
